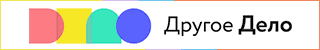Мастер, который рисует белым карандашом
Автор: Мария Атрощенко
– Андрей, большинству зрителей ваша профессия кажется очень загадочной…
– Загадочной, да. Для того чтобы спектакль вывезти куда‑то, о-очень большую работу, едва ли не самую большую должны проделать осветители и художники по свету. Все пойдут домой, а художник по свету с утра до ночи будет всё делать, потому что это очень объёмная работа. И она должна быть очень выверенной, точной, тщательной. Тогда и сам спектакль, и световая картина получатся правильно.
– Вы работаете со светом, но сами остаётесь в тени. Хотя ведь без вас актёры, в принципе, не увидят друг друга.
– Есть такие сцены, когда актёры могут друг друга и плохо видеть, но зритель их видеть должен всегда. Ну а мы остаёмся в тени, потому что… причём здесь мы? Мы работаем для зрителей, для артистов, а не для себя в полном смысле этого слова.
Зритель воспринимает образ, а не свет и артистов в отдельности. Лучший свет – это свет, который незаметен, который работает на образ вместе с артистами, с режиссёром, который добавляет эмоции, настроение сцене. Вот это лучший свет. Но этот свет не такой простой. Его не так‑то просто придумать. Вот, например, в «Грозе» применяется только скользящий свет, в нём нет прямого света, весь свет – скользящий. Он как бы не буквально светит на артистов. Этот приём создаёт в спектакле определённую напряжённость, характер.
– Но самой грозы в плане освещения в спектакле нет.
– Так гроза – это же метафора, опять же – образ, которого мы не видим, но который на всё влияет: на каждого героя, на весь спектакль. Он существует подсознательно в головах зрителей. Так же и мы: делаем свет, который влияет на восприятие зрителя. А грозу в буквальном смысле мы не делаем: просто создаём настроение, как перед грозой, как будто что‑то надвигается. Это не просто, но интересно. И в этом спектакле, мне кажется, это получается.
– Вы балансируете между творческой и технической сторонами своей работы?
– Если ты делаешь свет спектакля, ты должен быть подкованным с технической точки зрения: знать, как применяется определённый тип приборов, что он может дать. Каждый тип освещения, каждый угол, под которым расположен прибор, даёт определённую эмоцию. Приборов, которые придают определённые нюансы, великое множество. И надо знать, что они могут. Кстати, ваш театр достаточно хорошо оборудован: есть интеллектуальные приборы, очень недешёвые и очень технически сложные.
– При этом одних технических знаний было бы недостаточно для создания художественного образа, не так ли?
– Тогда бы нас инженеры могли спокойно заменить. Конечно, к навыкам по свету нужно ещё какие‑то свои внутренние ощущения и чувства приложить. На свет влияет даже то, как играет артист в конкретной сцене: он может быть ярким или неярким, может быть просто полумрак, или может быть такая акцентная картинка. Одну и ту же сцену можно воспринять по‑разному, если выставить разный свет.
– Вы имеете в виду, что от спектакля к спектаклю свет может меняться? Или всё же у вас есть чёткий план?
– Нет, программа записана в пульт, всё идёт строго по партитуре, созданной оператором и художником по свету. Всё четко расписано, вместе с артистами, с музыкой, с движениями. Я о том, что мы создаём свет в соответствии с тем, как режиссёр поставил сцену. Если сцена массовая, если что‑то происходит, – свет более яркий. В то же время, он может быть хоть и яркий, но с какими‑то своими чертами, определёнными фильтрами, которые тоже дают настроение. Например, в «Грозе» мы в основном применяем фильтр холодного оттенка: это такие голубые, ближе к стальным оттенки. Сочетание более тёмных с более светлыми создаёт здесь картинку.
– В современном театре, наоборот, чаще используется свет с красными фильтрами.
– Это буквально. Просто мы привыкли к тому, что за красным закрепился образ крови. Раз красное – значит, кровь, что‑то красное. Мы пытаемся уходить от этого буквализма. И вообще, буквальное восприятие только мешает. Хочется, чтобы зритель почувствовал напряжение не глазами, а откуда‑то изнутри, ощутил себя внутри сцены, пропустил увиденное через себя.
– Как рождается замысел световой партитуры?
– Сначала мы смотрим на эскиз, который нарисовал художник спектакля. Когда мы видим его, конечно, внутри возникают какие‑то ощущения. Начинаешь думать, почему здесь лодки, почему каркас ковчега, почему затёртые серые доски, мост… Затем мы смотрим репетицию, смотрим, как играют артисты, что они пытаются нам передать. Эти эмоции накладываются на впечатления от оформления сцены, и так возникают образы световых картин, мизансцен. Например, я включился в работу 22 ноября, когда приехал и посмотрел репетицию.
У нас работа начинается, когда есть уже все декорации, и когда спектакль уже отрепетирован. Так световые мизансцены получаются точными. Мы приступаем в последний момент к работе: в среднем – за неделю. Пять дней – это минимальный срок для того, чтобы нормально выставить свет.
– Такое сравнение напрашивается: во всех коробках цветных карандашей есть белый карандаш, но сам по себе он не используется. Можно подчеркнуть белки глаз, сделать штришок, чтобы получился блик, и всё. Это похоже на то, чем вы занимаетесь?
– Белый в коробке с карандашами сделан для акцентов. Так и у нас. Есть картинка, а есть акценты, штрихи, детали. Они важны. Как только мы добавляем деталей, картинка обретает объём. А без деталей она может быть плоской, бесхарактерной. Так и карандаш: если белым на белом нарисовать, вы же вообще ничего не получите. А вот если вы белки глаз подрисуете, точечки, маленькие штришки, – рисунок сразу же наполнится, в любом случае – приобретёт что‑то. Для этого – белый карандаш. И для этого – световые детали.
– Каково быть приглашённым специалистом?
– Я считаю, что художник по свету должен работать на разных площадках. Благодаря тому что художник работает в других театрах, он приобретает дополнительный опыт, знакомится с другими характерами театральных площадок: другими размерами, архитектурой, расположением осветительных приборов. Так нарабатывается опыт. Хотя, конечно, это не должно превращаться в конвейер.
Я думаю, то, что ваш театр приглашает специалистов со стороны – это очень большой плюс. Каждый человек привносит сюда что‑то своё, предлагает новые решения, показывает, что возможно. Это замечательно.
– Сильно ли отличается работа художника по свету на камерной сцене?
– Конечно. Только недавно я в театре сатиры с Фёдором Добронравовым выпускал спектакль «Старик и море» на очень небольшой сцене. Как‑то раз я с Петром Наумовичем Фоменко выпускал спектакль на очень маленькой сцене: в главной роли был Константин Аркадьевич Райкин. Там работа маленькая, но более сложная. Артист находится близко, зритель сидит на расстоянии двух метров, – публику обмануть уже невозможно. Зритель всё чувствует, всё понимает: приборы видно, провода видно, – магии никакой нет! Если прибор светит, и мы его видим – там одно ощущение. Но если прибора мы не видим, а свет идёт – это совершенно другое дело! Так что малая сцена – это испытание.
Некоторые думают, что свет существует как бы между прочим: «Светло, ну и нормально». Это вообще не характеристика для света – «светло» или «темно», как ни странно. Даже если вы включаете свет дома, он может быть разным: вот пришли вы с работы – включаете яркий свет; сели поработать и включили лампу – получился другой свет; включили телевизор, чтобы было уютно – третий свет. А если у вас два или три выключателя, вы можете сделать яркий, а можете – акцентный свет. Можете осветить какие‑то отдельные элементы: картины, вазочки… Или только вдоль стены свет включить – и совсем уже другое настроение: вы сидите спокойно, свет расслабил вас. Вот и всё: как минимум, четыре или пять источников света можно насчитать в одной комнате. Или человек идёт мимо дома и видит освещение. Но как дом так освещён? Пилястрочки – вот так, карнизы – вот так… Человек обычно не замечает нюансов, он просто видит, что красиво.
– Или замечает, когда свет гаснет!
– Да, да, да! «Темновато что‑то стало!»