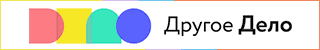Отзыв Андрея Петрова о спектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина»
Главный символ этого спектакля – падающий от выстрелов, изрешеченный пулями, но непременно с душераздирающим скрежетом встающий Пушкин – неубиваемый, непотопляемый, вечный. Словом, наше всё! Правда, речь идет не о самом гении, а о картонном силуэте петербургского памятника работы скульптора Аникушина. Однако оказывается, Пушкин (не памятник, а тот самый – великий) может смертельно осточертеть и испортить жизнь маленькому человеку, да опять же все-таки не сам Пушкин, а жестко навязываемый фантом, некий жупел, пугающий своей всеохватностью и вездесущностью.
Спектакль начинается с сакраментальной фразы: «Пушкина я возненавидел еще в детстве». И действительно, ужасающий образ великого русского поэта преследует героя, которого зовут Михаил Питунин, всюду: в детсаду, в школе, в техникуме, в армии и даже в его тщетных попытках предпринимательства. «Вот убили его и правильно сделали! Раньше еще надо было!» – этот детский отчаянный вскрик становится отражением отношения Питунина к Пушкину на долгие годы.
Автор пьесы российский и израильский драматург Михаил Хейфец в одном из интервью сравнивает свое произведение – отчего ж не замахнуться? – с пушкинским «Медным всадником»: здесь тоже маленький человек бросает вызов величественной, подавляющей его махине: «Ужо тебе!», и кончается всё трагически.
Режиссер и художник Андрей Тимошенко подчеркивает, что его спектакль – ни много ни мало – о смысле жизни, а еще о возможном подвиге, ведь подвиг всегда возможен, вспомним горьковское «в жизни всегда есть место подвигу», а на этом спектакле еще многое и многое вспоминается из советского прошлого – обаятельное и зубодробительное.
Игровая площадка – выстроенный посреди зрительного зала высокий помост, это не что иное, как место дуэли и гибели Пушкина, тут же установлены белые скамейки, как выясняется, весьма функциональные: они становятся удобным антуражем всех разнообразных локаций, в которых происходит действие, а еще в них хранится всевозможный, порой самый неожиданный реквизит. Рядом со скамейками установлены урны – тоже знаково, поскольку всяческого «мусора» по ходу представления будет «высыпано» немало.
Вдали, на собственно сцене – тот самый силуэт памятника Пушкину, который непотопляемый, верней, «неполагаемый», поскольку, как ванька-встанька, неизменно принимает вертикальное положение. Там же к концу спектакля разместятся в большом количестве некие воздушные шарики, точнее надутые полиэтиленовые пакеты, устремленные ввысь, которые тоже воспринимаются символичными и знаковыми.
Зрители располагаются в амфитеатре, а весь партер покрыт полиэтиленовой пленкой, поддуваемой-раздуваемой снизу. Кажется, что за помостом пропасть, иногда даже поеживаешься, когда артисты оказываются на самом краю – как бы не упали и не разбились! Но вот в финале главный герой пятится и ступает не куда-то, а в самую что ни на есть пропасть, но не падает, а крепко стоит на ногах на твердой поверхности, обволакиваемый развивающимся полиэтиленом, а потом исчезает в темноте…
Этот спектакль, по сути, монолог-исповедь главного героя Михаила Питунина, да и пьеса именно так и написана, и предполагается моноспектакль при ее сценическом воплощении, да вот только в реальности чаще всего количество действующих лиц расширяется, и все упоминаемые героем персонажи так или иначе появляются на сцене. Нужно сказать, что пьеса М. Хейфеца пользуется огромной популярностью, спектакли по ней активно ставятся по городам и весям России и не только: на официальном сайте драматурга можно обнаружить информацию о многих постановках, богато иллюстрируемую фотографиями; к слову, и архангельский спектакль там уже представлен.
Замечательный драматургический материал – пиршество для яркой театральности. А какой колоритный язык, вот, например, про Н.Н. Гончарову: «Наташка приперлась, а там – нате вам из-под кровати – Дантес!» Залог успеха архангельского представления – изобретательность, раскрепощенность режиссуры Андрея Тимошенко, он же здесь выступает и как не менее изобретательный и раскрепощенный художник-сценограф и художник по костюмам, высокий профессионализм и незаурядное мастерство художника по свету Алексея Расходчикова, балетмейстера Анастасии Змываловой, звукорежиссера Ярослава Антропова. Но все-таки в большей степени это актерский спектакль, в котором с нескрываемым удовольствием играют отличные артисты – молодые лидеры нынешней ломоносовской труппы, склонные как раз к требуемому драматургией импровизационно-игровому способу существования на сцене, которым они владеют виртуозно.
Очень вольготно себя чувствуют в игровой стихии представления Дмитрий Беляков и Иван Братушев, легко и непринужденно сменяющие одну гротесковую маску за другой: вот забавные детсадовцы и школьники, вот заторможенные военные, а вот жутковатые бандиты – очень узнаваемо и очень смешно.
Нина Няникова шикарно лицедействует, азартно играя уморительных и умилительных своих героинь – очень разнообразных: от кроткой испуганной мамы главного героя до легкомысленно порхающей Натальи Николаевны Гончаровой, от иезуитской тиранши-учительницы до коварной интриганки Идалии Полетика, скачущей, однако, нелепой карнавальной лисичкой.
Михаил Кузьмин давно мечтал о роли Питунина, очевидно, что герой ему по-особенному дорог и необходим, и потому получилось исповедально, глубоко, предельно искренне, к тому же здесь есть замечательная возможность проявить и незаурядное комедийное дарование актера, и его умение ярко, насыщенно преподнести образ, которой он роскошно воспользовался. Щемяще-трогательно вольно или невольно время от времени принимает Питунин Кузьмина позу Пушкина, запечатленную на аникушинском памятнике, примеряя на себя судьбу гения.
Детская, максималистская ненависть Михаила Питунина к Пушкину перерастает в тревогу героя за поэта, даже в желание его непременно спасти, уберечь от роковой пули. А по сути в спектакле показана неказистая жизнь неказистого человека, окончившаяся неказистой же смертью. Если бы не Пушкин, если бы не Пушкинский Петербург, если бы не место гибели Пушкина, ставшее местом, связанным с самыми счастливыми мгновениями в жизни Питунина, и местом гибели его самого.
В спектакле много стеба и в то же время щемящей ностальгии по былому, немало горечи, которая нарастает-нарастает и в финале накрывает тебя с головой. Очень смешные, выпукло поданные анекдотические абсурдные ситуации перемежаются с глубоким неравнодушным исследованием биографии Пушкина, особенно последних дней его жизни, яркие узнаваемые картинки советской и постсоветской действительности чередуются с просветительским пафосом, например, подробностей дуэльного ритуала далекого прошлого. А какие хлесткие социальные характеристики здесь встречаются, вот, например: «Это ж армия: кому тут на хрен твое здоровье интересно?» Трогательны и симпатичны детали, олицетворяющие две эпохи, противопоставленные в спектакле, – пушкинскую и нашу.
Особенно впечатляет пародийно-гротесковая демонстрация пиетета перед великим, показное чествование, за которым скрывается равнодушие и пустота, не мешающие, однако, преследовать, подавлять инакомыслие, а по сути искренность и честность восприятия. Представляются знаковыми, разоблачительно-обличительными, оказывающими большое воздействие фразы-откровения Питунина: «Откуда я знал, что не любить Пушкина нельзя?»; «Вот оно как! Я ведь раньше думал, что Пушкин только нам с Дубасовым на хрен не нужен. А вон как повернулось. Он – вообще, оказывается, никому не нужен! «Нет спроса»».
Еще один важный символ сопровождает героя всю жизнь, он воплощен в двух произведениях изобразительного искусства: картине в фойе школы имени Пушкина, в которой учился Питунин, «Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккеренъ 27-го января 1837 г., рис. Коверзневъ, грав. Герасимовъ», изображающей раненого Пушкина, целящегося из пистолета в Дантеса, и созданном на ее основе рисунке любимой девушки Питунина Лерой «Михаил Питунин спасает камер-юнкера Пушкина», на котором почти всё, как на картине в фойе, только Пушкин не лежит, а стоит целый и невредимый, а перед ним истекающий кровью Питунин (этот рисунок воспроизведен на афише и программке спектакля).
Неказистая жизнь неказистого Питунина обретает смысл – защитить, спасти, заслонить собой Пушкина, который хоть «ни ростом, ни лицом, ни чином – особенно не вышел», но он все-таки Пушкин. В финале случается то, что случается. И заставляет меня как зрителя задуматься о своей бренной жизни, попытаться отыскать в ней смысл. Пушкина жалко, и Питунина жалко. И звучат в спектакле – пронзительно и проникновенно – «Лакримоза» из моцартовского «Реквиема» по Пушкину и песни питерской группы «Аукцыон» по Питунину.